Седьмая Вода
К тому времени, когда Арсений и дядя Максим уселись напротив нас с Кириллом в ресторане, я уже практически перестала дергаться по поводу предполагаемых эскапад моего братца. В конце концов, вспомнилось прежнее положение вещей до моего отъезда. Сколько бы я ни силилась и ни напрягалась, повлиять на его поведение мне все равно никогда не удавалось. Так что приму, что будет. И если Сеня устроит скандал, не постеснявшись даже присутствия отца… то так Кирюше и надо. Сам не то что напросился, а буквально вымучил у меня эту встречу. Нет, конечно, я ни в коем разе не хотела для Кирилла никакого членовредительства или других неприятностей. Но и его это настойчивое желание познакомиться с моей семьей меня изрядно раздражало.
Номер мы все же сняли, чтобы Кирилл мог принять душ и переодеться. Я хотела съездить домой, подготовиться к ужину, но выяснилось, в этом нет необходимости. Большей частью в багаже Кирилла оказались почему-то мои шмотки. Он, очевидно, решил, что мне дома просто ну никак не обойтись без шелковых комбинезонов от Версаче, босоножек от Джимми Чу и прочих выпендрежных творений дизайнерской мысли. Хотя чему удивляться. Кирилл любил, чтобы его окружали красивые и качественные вещи, причем это касалось всего и всех. И если в повседневности он с легкостью переносил то, что мой основной принцип в выборе одежды – это комфорт и удобство, то в том, что касалось парадных выходов, уже я всегда подчинялась его желанию довести мой образ до состояния, близкого к совершенству. Поэтому даже удивилась, что легко отделалась, когда не услышала ни единого слова о макияже. Кирилл просто погладил большим пальцем мой нос и щеки, где уже радостно повысыпали ненавистные веснушки, и снова чмокнул в макушку.
– Ты успела немного загореть, – сказал он, надевая пиджак.
– Это твой способ мне мягко намекнуть, что я стала похожа на далматинца? – усмехнулась я, обуваясь.
– Глупости. Тебе очень идет. Зачем только ты все время с ними борешься?
– Потому что они ужасны!
– Они великолепны, как и вся ты!
Очутившись лицом к лицу с Арсением, я едва сдержала желание прикусить губу и возмутилась вопиющей жизненной несправедливостью. Почему кто-то такой невыносимый должен так выглядеть в этом проклятущем костюме, что мне нужно столько усилий, чтобы отвести глаза? Они никак не хотели отлипать от его гладко выбритых щек (хотя мне все время казалось, что мне нравится у мужчин небольшая щетина), от резко очерченных скул, от смуглой мощной шеи. Да далась мне шея эта! Вот почему? Потому что эта одна из граней его невыносимости, вот почему! Опустив взгляд, я разозлилась на себя еще больше. Смотреть на его большие ладони и длинные сильные пальцы тоже не было особо удачной идеей. В первый момент я так и ждала, что он ляпнет какую-то гадость, уж слишком злобно-оценивающе он изучал Кирилла. Так, словно хотел препарировать и разложить кусками прямо тут. Но шли минуты, Арсений молчал, переведя теперь напряженный взгляд на меня, и мне пришлось изо всех сил стараться не встречаться с ним глазами, когда я рассказывала дяде Максиму о визите столичного профессора. Это его тщательное рассматривание ощущалось почти как прикосновение, и у меня по коже то и дело пробегал озноб, когда Арсений снова и снова останавливал свой взор на моих губах. Тут же накрывало воспоминание, что еще вчера его собственные находились в считанных сантиметрах от моих, и голова снова начинала кружиться от запаха и вкуса вина в его дыхании. И все это жутко выводило меня из себя, поэтому я горячилась, сбивалась, рассказывала все чересчур эмоционально, стараясь отключиться от всего того, что со мной делает само присутствие Арсения и это его пристальное внимание. Желудок свернулся узлом, и ни о какой еде я даже думать не могла. Зато Кирилл, похоже, был всем доволен и чувствовал себя под расчленяющим взглядом Арсения превосходно, изводя, по своему обыкновению, официантку расспросами. Неужели он на самом деле не понимает, даже после всего, что узнал от меня, чем может это закончиться? Вот это вряд ли. Тогда чего добивается?
Но после эсэмэс из больницы все эти вопросы в одно мгновение вымело из моего разума, как и не было. Все, что я понимала в тот момент, это что могу прямо сейчас увидеть маму – живую, улыбающуюся, а не ту неподвижную, безжизненную, опутанную трубками восковую ее копию. Я отказывалась даже запоминать маму такой. Она красивая, цветущая, теплая, родная, а скорбная картина, где она на себя не похожа, пусть исчезает, стирается без следа.
Медсестра, которая вела нас с дядей Максимом, повернула в другую сторону от реанимации, и я затормозила, непонимающе оглядываясь.
– Перевели ее в интенсивную, – пояснила медсестра, заметив мое замешательство, и открыла дверь с соответствующей надписью. – Только никаких волнений, ей нельзя. И не больше десяти минут. Пока тяжело ей будет.
– А разве никто из нас не сможет с ней остаться? – встревожился дядя Максим. – Мне лечащий говорил, что как только из реанимации переведут, мы сможем дежурить. Палата-то одноместная.
Мужчина говорил шепотом, а я была раздосадована задержкой.
– Это вы у него и спрашивайте. У меня таких инструкций нет, – так же шепотом ответила сестра.
Я, наконец, проскользнула внутрь и на секунду замешкалась, увидев кровать с немного приподнятой головной частью. Мама – смертельно бледная, жутко осунувшаяся – смотрела на меня совершенно ясными, влажно-блестящими глазами. Я столько ждала, чтобы она пришла в себя, но оказалась не готова к силе душевной боли в ее невыносимо пронзительном сейчас взгляде.
– Ма-а-ам… – сглотнув, практически проскулила я и поплелась ближе на враз одеревеневших ногах.
Правая рука мамы дернулась, когда она потянулась ко мне, и я не смогла устоять и опустилась прямо на пол, подхватывая ее обеими своими и прижимая к лицу. Она пахла больницей, какой-то химией и совсем немного собой. Вспомнив предупреждения медсестры, я огромным усилием не позволила себе расплакаться перед мамой. Нельзя. Не здесь и не сейчас. Подняв голову, я собрала все силы, чтобы изобразить улыбку.
– Мариночка, родная. – Мне было очевидно, что дядя Максим тоже отчаянно борется с волнением и дрожью в голосе.
– А-а-асенка, – невнятно произнесла мама ломающимся голосом, и меня будто в живот пнули от вида того, как искривился ее рот в попытке говорить. Левая сторона тела ведь была парализована и поэтому, несмотря на усилия, не слушалась.
– Да, она здесь, – сказал Максим Григорьевич, выручая меня, пока не могла справиться с эмоциями. – Мы все здесь, с тобой. Заждались уже.
Из глаз мамы покатились слезы, и она попыталась что-то сказать, но мы смогли разобрать только «зачем».
– Очень соскучилась, мам, вот и приехала, – ответила я, стараясь уловить смысл сказанного ею. – Поживу тут, пока вам не надоем.
Моя попытка сымитировать веселье была неуместной и провалилась, потому что мама слабо замотала головой и снова что-то попыталась произнести, но то ли сил не хватало, то ли пока собственное тело отказывалось повиноваться, и это привело только к новой волне слез, и прибор рядом с кроватью издал противный звук.
– Мариночка, солнышко, не надо разговаривать пока. Мы со всем справимся. Ты окрепнешь и все-все нам расскажешь. А сейчас не надо. Прошу.
Было странно трогательно слышать, как огромный мужчина, такой всегда суровый и властный практически ворковал над мамой, вытирая ее слезы и стараясь успокоить.
Но сейчас мама, казалось, не замечала его усилий и не хотела отвлекаться. Она стала повторять одно и то же слово, глядя на меня.
– Прости… прости… прости…
Я онемела, не понимая, за что она могла бы просить у меня прощения, тем более сейчас.
– Мамулечка, прошу, не надо так волноваться. У нас столько времени впереди. Ты мне все-все скажешь, и я тебе, – я что-то говорила снова и снова, уговаривая, и дядя Максим мне словно вторил, стараясь успокоить маму.



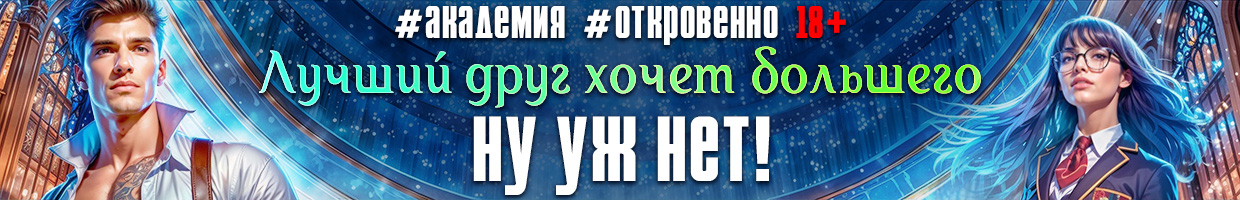
 Цветовая схема
Цветовая схема  Интервал
Интервал