Проклятые красотой
Йохан выздоравливал долго и тяжело. Первые пару дней Лена вообще старалась не покидать дом дольше, чем на полчаса, если только сбегать за водой или по естественной надобности.
Когда наутро после его возвращения она открыла глаза, мужчина еще спал. Или был без сознания. Он никак не отреагировал, когда девушка, вскипятив новую порцию воды, начала протирать его спину. Остро пахло потом и кровью. Раны подсохли, но все равно представляли собой ужасающее зрелище. Некоторые из них стали белыми по краям, воспаление грозилось перейти в стадию гнойного. Жар не спадал. В перерывах между спасительным забытьем мужчина от боли вновь и вновь кусал губы, и они тоже превратились в кровоточащие раны.
Лена постелила на пол рядом с его лавкой покрывало и проводила почти все время сидя на нем. Прислушивалась к дыханию раненого. Протирала ему раны на губе и спине. Он не стонал, не жаловался, только иногда задерживал дыхание, пережидая острый приступ боли. И не ел. На все предложения девушки о еде ответом ей были закрытые глаза и полное безразличие.
Лене тоже кусок в горло не лез. Хотелось выть и лезть на стену. Если бы она могла хоть что-то! Мама всегда, когда они болели, находила возможность облегчить страдания, поддержать, помочь. Бежала в аптеку и магазин за вкусненьким, подсластить горькие - во всех смыслах - пилюли. А тут ни мамы, ни лекарств. Если бы хотя бы знала, как добраться до дома Хозяйки! Не отказала бы в такой ситуации, у нее по стенам гербария было достаточно. И она точно знала, как его использовать. В отличие от обычной городской девчонки. Ей что тысячелистник, что душица - все одно. А всем известная амброзия в список лекарственных не входит.
Девушка изредка проваливалась в тревожную дремоту, практически потеряв ощущение реальности и счет времени. Видела свой дом, старые высоченные клены у лавочки у подъезда. Бабушек, греющихся на солнышке и лениво обсуждающих последние новости двора и мира. Отчима, отрешенно курящего у приоткрытого окна. Как мама не ругалась, он так и не бросил свою привычку, бегая на кухню пока она была на работе. Брата, сосредоточенно сидящего в наушниках перед монитором. Лена помнила, как он хотел себе новый компьютер и какой был скандал, когда ему отказали. Брат даже пошел на подработку в магазин грузчиком. Продержался, правда, не долго. Денег вот только на монитор да на наушники тогда и хватило. И, конечно же, несколько грязных чашек рядом с клавиатурой и небрежно приткнутая на угол стола тарелка. То, за что с Лены бы мама спустила три шкуры, брату позволялось без малейшего замечания с ее стороны.
Мама… Да, она являлась во сне гораздо чаще остальных. То такая, какой Лена помнила ее в последние дни. С сеточкой усталых морщин. С сединой, все сильнее расползающейся от висков. Грустная, со своей спокойной и нежной улыбкой. Украдкой заглядывающая в комнату к брату. Или в упор не замечающая давящегося сигаретным дымом отчима, как можно незаметнее прикрывающего окно. Или, не видимая, пришедшая на ночь поцеловать старшую дочь. Но ощущаемая каждым из органов чувств: неповторимый запах ее кожи, звук осторожных шагов, тепло ее шершавых рук и мягкость губ. Все, что напоминало о ней сейчас, вызывало острую щемящую боль в сердце.
То совсем молодая, из тех времен, когда они жили только вдвоем. Смеющуюся, глаза с грустинкой. С широкой улыбкой и в старом красном пальто, о котором Лена мечтала все детство, забираясь в шкаф и вдыхая его запах, представляя себя в нем вместо мамы. Почему-то она казалась себе невероятно важной, взрослой и красивой в этом потертом заношенном, но все равно ярком пальто. Красное на красном. Красное как кровь.
- Так, - сказала мама во сне, повязывая передник с веселыми вишенками в далеком несуществующем городе. - Больной должен кушать! - и Лена проснулась. Словно вынырнула не из тяжелой дремы, а из озера тоски и безнадежности.
- Так, - сказала Лена, вставая и отряхивая помятое платье. - Ты, конечно, как хочешь, но умереть я тебе не дам. И уж точно не от голода. Чего б ты себе там не удумал.
Ответом была привычная тишина. За эти два дня Йохан не произнес ни слова. Только молча принимал заботу, не имея возможности от нее отказаться.
Первое лекарство - сытный питательный бульон! - говорила мама. За неимением других лекарств пришлось с этим согласиться. Остатки мяса - темное, жилистое, не птичье, пара вареных картошин из замка да горячая вода - чем не суп? Дольше, чем готовить, пришлось воевать с Йоханом. Он совершенно не собирался ничего есть. Его б воля - впал бы окончательно в забытье и никогда не просыпался. Но Лена, подстегиваемая перспективой полного одиночества, упорно раз за разом продолжала кормить, промывать, умывать, приносить отхожее ведро, стыдливо выбегая за дверь.
Это дало свои результаты. К вечеру третьего дня Йохан смог сесть и самостоятельно поесть. Он по-прежнему был крайне бледен и слаб, но хотя бы уже не лежал без движения все время.
- Там, в твоей комнате, на печи мешок с травами, принеси, - первая сказанная за три дня фраза испугала Лену настолько, что она с грохотом уронила ведро с водой, которое только что принесла.
- Что? - грубее, чем хотелось бы. Слишком неожиданно он заговорил. Досада взяла за разлитую воду. Не так-то просто ее сюда донести.
Повторять он не стал. Отставил плошку, из которой только что поужинал, и медленно, опираясь на лавку, попытался встать.
Лена, тихо ненавидя себя, его и весь мир, обошла мужчину по самой широкой дуге, которую позволяла сделать комната, и отправилась на поиски указанного мешка. До этого момента ей не приходило в голову осматривать до и уж тем более лазить по таким закуткам. Не до того было.
- Вот, - мешочек пропах пылью и, судя по внешнему виду, побывал в очень многих и не самых приятных местах. Грязная печь- одно из них.
Йохан молча развязал горловину и вытряхнул на ладонь горсть трухи вместе с несколькими оставшимися целыми листочками какой-то травы.
- Добавь в воду, настаивай до утра, буду пить.
- Хорошо, - как ни хотелось сказать ему что-нибудь очень неприятное, сдержалась. Еще одна заповедь мамы - худой мир лучше доброй ссоры - для их отношений подходила как нельзя лучше.
Йохан знает, что там была за трава, но это помогло. К вечеру следующего дня мужчина уже гораздо увереннее держался на ногах. Он даже начал проводить больше времени на улице, чем в доме, заходя только на ночь или поесть. Лену это страшно задевало. С одной стороны, она была горда собой, что в такой непростой ситуации смогла поднять раненого человека на ноги без чьей-либо помощи. С другой - обижало равнодушие Йохана. Говорил он только по делу, ни единого лишнего слова. Дай, на, там, не так, вон там - и весь диалог. Ее неловкие попытки завязать более содержательный разговор раз за разом терпели неудачу. Нет, он не отказывался отвечать на ее вопросы, но отвечал так сухо и односложно, что пропадало всякое желание продолжать. С долгожданным обучением была примерно та же история - его не было. Все, что она научилась делать по дому за это время - ее личная заслуга. Мужчина в этом не участвовал. Единственный близкий контакт, который вынужденно поддерживали, было промывание ран все тем же отваром дважды в сутки. После обработки еда. Потом сразу на улицу и до сумерек в доме он не появлялся. Ужин. Снова обработка и сразу спать. Лучину девушка уносила к себе сразу после того, как Йохан, терпеливо снеся очередную процедуру, накрывался с головой и отворачивался к стене.
По ночам, лишившись необходимости дежурить у его кровати, Лена тихонько плакала от одиночества и обиды, закутавшись в покрывало в своей комнатушке. На что она надеялась, вкладывая все силы и душу в лечение чужого ей человека? Собачья преданность и благодарность до гроба была ей не нужна, она и не просила об этом. Обычное человеческое тепло, внимание, доброе слово хотя бы. Но Йохан упорно молчал и отводил взгляд. Он едва терпел ее прикосновения. Даже когда боль понемногу отступила, и обработка ран перестала быть опасной, его спина оставалась напряженной как струна. Он всегда чуть наклонялся вперед, стараясь держаться на самой грани досягаемости рук девушки. В другое время, случись им встретиться в дверях или любой аналогичной ситуации, Йохан всегда отступал, уходил. Отдергивал руку, когда они одновременно тянулись за сухарем. Словно ему была недопустима сама мысль прикоснуться к ней.




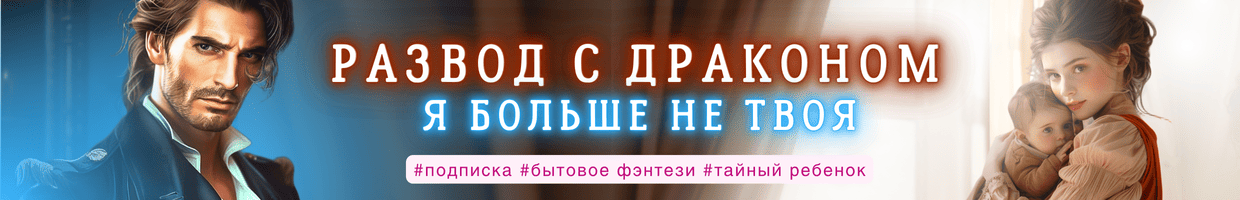
 Цветовая схема
Цветовая схема  Интервал
Интервал