Стая превыше всего
— Как тебя зовут, найденыш?
Взгляд у нее поблекший, мутный, будто осколки бутылочного стекла, побитого и ограненного проточной водой; мечется между ним и Феликсом. Не дает себе довериться добродушному тону того, кто так сильно похож на ее убийцу. Готовится защищаться раньше, чем нападут снова.
Томас присаживается на пол напротив нее, складывает ноги по-турецки и ладони на коленях раскрывает, показывает: безоружен. Ни ножа. Ни когтей. Не волнуйся.
Девчушку потрясывает то ли от адреналина, то ли от холода; еще немного, и по бледной коже разряды электричества побегут, игриво-колючие искры. Трещины на губах, исцарапанные руки, пролегающие под тревожно-зелеными глазами тени, взлохмаченные огненно-рыжие локоны — тебе в ведьмы с таким личиком, душа моя, а не в оборотни. Ни один костер бы не посмел возгореться под твоими ногами.
На вопрос не отвечает. Боится подать голос. Неправильная для волка позиция. Скоро научишься выть, родная, да так, чтобы стекла и кости врагов твоих трескались. Во множественном? Один-то враг имеется точно; довольный скалится, наблюдая, как племянник пытается дикарку приручить.
— Томас, — представляется он, улыбку тянет настолько искреннюю, насколько в нем еще сил на это осталось. — Я такой же, как ты теперь. Оборотень. Бета.
Только тебя обратили, а я таким родился. Что-то у нас общее — мы оба этого не просили.
— А мы… твоя стая.
Она смотрит в неверии на двоих мужчин перед собой и нервный смех бурлит в ее горле, невесомыми пузырьками поднимается и срывается с пухлых, бледных губ. Чужеродный, странный и звук, звонкий в скорбной тишине.
— Вот уж повезло.
Голос у нее хриплый, сорванный криком, тщетной мольбой, неуслышанной надеждой. Уголки рта кривит вниз, пытается то ли не зарыдать, то ли не броситься прямо на Томаса, оскалить новые, звериные зубы и рвать, вгрызаться, поддаться животному, бушующему в каждой клетке перерожденного тела.
Томас никогда ее не поймет — в нем зов луны не затихал с рождения, кровь в жилах всегда шумела в такт верхушкам деревьев под порывистым ветром, ярость он познал раньше, чем любовь и сострадание. Он никогда не был человеком.
Никогда не терял человечность. Не скорбел по прошлой жизни. Всегда только вперед, вперед, на охоту, прочь от луны. В укрытие, пока не заметили охотники. В безопасность, пока не сорвался на невинных.
Никогда не оборачиваться. Орфей был глупцом, не сумевшим сдержаться. Он такого себе позволить не может. И так за предка долг отдает, решившего на трапезе бога проверить. Ликана обратили в волка за греховную гордость, а дети его теперь давятся ей, как тем самым мясом, и не могут цикл прервать; луна над ними насмехается, и издевательское эхо это не утихает в черепах, бьется приливом о барабанные перепонки, рыком сквозь сжатые клыки выходит.
Ни молитв, ни гимнов. Только зов крови. Только боевой клич.
И надрыв в голосе хрупкой девчушки перед ним — не знающей ни леса, ни ветра, только боль в разорванной плоти и растущих неконтролируемо пока клыках и когтях. Не выбиравшей путь волка, но утянутой в лунную пучину все равно.
Потерянной.
— Я тебя всему научу, — старается звучать мягко, не наставник и не лидер, просто друг по несчастью, враг твоего врага. — Через несколько дней полнолуние. Все изменится, ты только не пугайся.
— Какая прелесть, — Феликс скалится, подходит ближе, нависает над ними, ядовитый и упивающийся собственной властью. — Захотел тренировать новобранцев? Возомнил себя альфой?
Змея, а не волк; в глазах Томаса загорается оплавленная золотая ярость, метка зверя, предупреждение и вызов одновременно.
— Это мой солдат, — показательно-играючи Феликс обнажает когти и убирает ей локон от лица; близко, на грани, дернется даже на волосок — крови не избежать.
Никто за тобой не пойдет. Деспот — не генерал; альфы без стаи не бывает, кем останешься, если даже племянник и испуганный найденыш от тебя отрекутся?
— Отойди.
Предупреждает.
Феликсу смешно; он ни бунта на корабле не боится, ни побега крыс, за штурвалом сумасшедший и даже крушение на скалах будет судьбою более завидной. Его штормит от собственного могущества, как дырявую шхуну, и скоро трюм затопит темной водой и густой кровью, и спасаться будет некому.
Ему не нужна стая, ему нужна армия, и он действительно верит, что дает племяннику невероятный шанс встать во флаг неизбежно побеждающей стороны. Его картинное благородство его позабавит еще какое-то время, но долго Феликс играться не намерен.
Поэтому за реакцией Томаса наблюдает вни-ма-тель-но, провоцирует, проверяет, насколько отчаялся.
Недостаточно.
— Отойди от нее, — повторяет Томас с нажимом, все в нем напряжено и натянуто, один нерв закоротит, как испорченный датчик — и нападет.
А она на него смотрит, ни секунды внимания не тратит на Феликса — знает, что этого и хочет; пульс выдает — барабанная дробь, молитва загнанного в последнюю ловушку белого кролика, — да губы едва приоткрытые, чтобы дыхание спертое перехватить. Между двумя хищниками.
— Знай свое место.
Сказано в пустоту, обоим сразу; и голову поднявшему щенку-племяннику, и новой питомице. Феликс опускает руку, так и не ранив, лишь угрозой насытившись; щурится, словно просчитывая что-то. Найденыш тихо сглатывает, невольно опускает плечи, только что в клубочек не сворачивается. Смаргивает слезы; странно, неправильно, но глаза от этого у нее будто новым огнем загораются.
Даже так красивая.
— Хочется с дворняжками возиться — твоя воля, — почти шипит Феликс, неожиданным презрением каждый слог сочится. — Бешенством заразишься — ко мне не беги. Знаешь, откуда я ее выкрал?
По больничным одеждам и тревожной манере и так ясно, но Томас не перебивает.
— Так легко подозвать к себе сумасшедшую на прогулке, если на нее даже там всем уже плевать.
Она закрывает глаза и затылком упирается в стену, медленно, беззвучно шевелит губами. Дышит с легким свистом, сквозь зубы.
Успокаивается.
— Это не давало тебе права…
— У меня есть все право, — низкий рык вырывается из широкой груди. — Это дар, а не проклятие.
Нашелся благодетель.
Бессилие разбухает в легких Томаса, заполняя все пространство, тянет вниз и мешает нормально вдохнуть; ему тошно продолжать этот разговор, быть в присутствии дяди, спорить о ценности жизни перед девушкой, у кого ее не осталось. Он молча проглатывает мерзкое послевкусие собственного бездействия, и соглашается.
Благо невероятное. Как бы не свихнуться от такого счастья.
— Ну что, родная, — ладонь ей протягивает, осторожно прикасается к пылающей жаром коже, — хватит тут сидеть, найдем тебе какое-нибудь место.
Подальше от стервятника в волчьей шкуре.




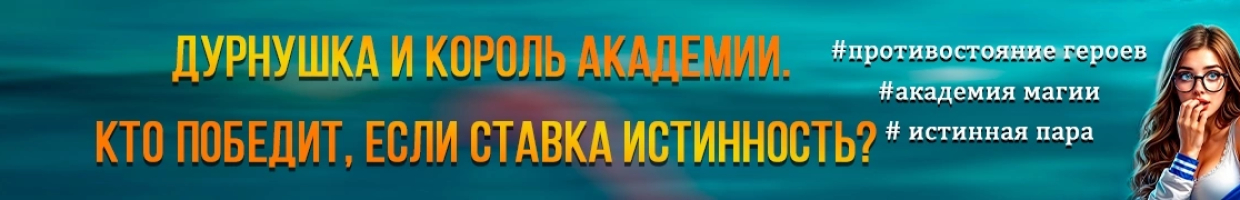
 Цветовая схема
Цветовая схема  Интервал
Интервал